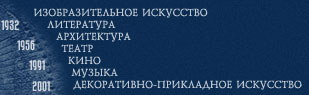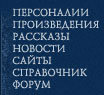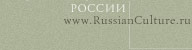АЛЕКСЕЕВ М.П. ПУШКИН И АНГЛИЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В РОССИИ
Английские путешественники в России и русские в Англии
С начала XIX в. Россия, главным образом Петербург и Москва, часто посещаются иностранными путешественниками. Сюда едут и дипломаты, и врачи, и купцы, и художники, и просто туристы. В разноплеменной толпе гостящих в русских столицах или разъезжающих по стране путешественников в это время было особенно много англичан.
Вниманию англичан к России, проявлявшемуся уже в давние годы, в начале XIX в. был дан новый толчок англо-русским военно-политическим сближением в период наполеоновских войн, а затем и сложной игрой обоюдных интересов на Ближнем Востоке и в Азии. Таким образом, эти путешествия получали теперь и некоторый политический смысл и своего рода дипломатическую важность, постепенно становясь все более частыми. Не менее существенным было еще одно обстоятельство: заграничные походы русской армии еще прочнее, чем прежде, связали судьбу русского государства с судьбами западноевропейских держав: с тех пор уже не могло быть и речи о какой-либо его политической замкнутости или изоляции, еще дававших себя знать в наших международных отношениях в XVIII в. (например, при Павле I, когда назревал англо-русский военный конфликт), несмотря на выдающуюся уже тогда международную роль России и поражавшую европейских политиков ее военную мощь.
Приезжая в русские столицы в 1820-1830-е годы, иностранец слышал здесь не только французскую, но и английскую речь, встречал тут как своих добрых приятелей тех самых людей, с которыми он уже свел знакомство в Европе, - в Париже, Риме, Венеции, Флоренции или Лондоне.
1820-1830-е годы - пора особенно частых поездок англичан в Россию, русских - в Англию и в то же время пора их особенно частых встреч во всех столицах континентальной Европы, на всех модных курортах и путях международного туризма. Русский журналист 1830-х годов, размышляя в статье "Путешественник нашего времени" на тему о том, кто и как путешествует по Европе, приходил даже к заключению, что из всех культурных народов "путешествуют более всех англичане и русские, так много и так часто, что о других в сравнении с ними можно сказать, что они совсем не путешествуют".
В переписке русских людей 1820-1830-х годов часто мелькают английские имена; встречи с англичанами в Петербурге и Москве неисчислимы, привычны и поэтому нередко малозначительны. Достаточно перелистать такие источники того времени, как переписку А. И. Тургенева с П. А. Вяземским или А. Я. Булгакова с братом, чтобы увидеть, как часты в эти годы англо-русские встречи и в России и за ее пределами.
Сюда относится, прежде всего, дипломатический круг: англичане из великобританского посольства в Петербурге - частые гости на петербургских и московских балах, раутах, приемах. П. А. Вяземский, например, поддерживает сношения со многими из англичан, принимает их у себя, записывает беседы с ними на политические или литературные темы. Если они ездят в Москву, А. Я. Булгаков приглашает их к себе, делает им ответные визиты, торопится показать им все достопримечательности города. Любопытны сохранившиеся в его письмах рассказы о том, как он сопутствовал Стратфорду-Каннингу в 1825 г. во время его ознакомления с Москвой.
При помощи дипломатических кругов легкий доступ в русские столичные салоны получали и другие "залетные" путешественники из Англии. То это "какой-то англичанин-вояжер, прекрасный собою", как его аттестует принимавший его у себя в 1831 г. А. Я. Булгаков; то "Niedham, voyageur anglais", участвовавший в московском масленичном катанье на санях; то некий "господин с письмом из Лондона от Ломоносова С. Г., служившего в русском посольстве, капитан королевского флота Crawford"; то молодой лорд, совершавший в России свое свадебное путешествие; то "англичанин-путешественник", "молодой человек, ...кажется, сын богатого пастора". Английский путешественник был в некотором роде обязательной фигурой при описании петербургского или московского общества 1820-1830-х годов - в первую очередь, конечно, его высшего дворянского слоя.
Не пропустил английского путешествующего лорда с супругой также и Лермонтов при описании петербургского высшего света середины 1830-х годов. Он пишет в "Княгине Лиговской" (гл. IX): "...Тут было все, что есть лучшего в Петербурге: два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что, впрочем, вовсе не удивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах; несколько генералов и государственных людей, - один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу blue stockings "синих чулок" и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах...". Конкретность этой характеристики, заставляющая предположить, что Лермонтов имел здесь в виду совершенно определенных, хотя и не известных нам лиц, нисколько не лишает ее типичности, но даже усиливает ее. В русском журнале 1839 г. можно прочесть, например, подробное объяснение того, что значит "путешествовать из экономии", по английскому обычаю, и оно может служить прекрасным комментарием к приведенным словам Лермонтова из "Княгини Лиговской". Еще ранее О. И. Сенковский утверждал, со своей стороны: "Англичане ездят за границу для экономии".
Английские путешественники, однако, появились у нас не только в высшем свете; они проникали в дворянские помещичьи усадьбы во внутренних губерниях, встречались в чиновничьих кругах провинциальных захолустий, да и в обеих столицах, особенно в Петербурге, нередко были приметны в самых различных общественных слоях, тем более, что и "английская колония", например, в том же Петербурге, была в эти годы довольно велика и очень разнообразна по своему составу.
В 1814-1815 гг. через Россию проехал, возвращаясь из Персии в Англию через Кавказ и Москву, писатель Джеймс Морьер (James Justinian Morier; 1780-1849), книги которого о похождениях Мирзы Хаджи Баба Исфагани в переводах-переделках О. И. Сенковского впоследствии стяжали у нас столь большую популярность.
Другие английские путешественники предпринимали путешествия в обратном направлении - с севера на юг. В начале 20-х годов французский путешественник, ехавший морем в Петербург вместе с английской семьей, сделал следующее наблюдение: "Не мог я не подивиться благоразумной простоте и умеренности, с коими путешествуют англичане. Один пожилой британец с двумя дочерьми ехал с нами в Петербург. Оттуда намеревались они продолжать свой путь в Одессу, а потом, сев на корабль, отправиться в Константинополь и, наконец, в Египет. Кто бы поверил, что весь багаж его семейства заключался в двух маленьких чемоданах?".
В начале 20-х годов в России заставил о себе говорить англичанин-путешественник не совсем обычного типа. Это был Джон Кокрен, совершивший "пешеходное" странствие из Петербурга на Камчатку через Сибирь, женившийся на сибирячке и по возвращении в Англию опубликовавший занимательную книгу о своих скитаниях (1824). Личность этого Кокрена, которого В. П. Кочубей метко прозвал "почетным бродягою", долго занимала русское общество, в частности пушкинский круг: обсуждали изданную им книгу, способ его путешествий, характер и качество сделанных им наблюдений.
Англичане, путешествовавшие по России, пользовались относительной в то время свободой и заезжали довольно далеко от столиц. Так, например, в конце октября 1826 г. в Оренбурге появился некий англичанин, Ричард Сандереон, вместе с сопровождавшим его слугой. Тотчас по своем прибытии в этот город он очень удивил местные полицейские власти своим чудаковатым поведением, которое показалось не только непривычным, но и крайне подозрительным: двое суток он почти не выходил из своего экипажа, затем переместился в нанятую им комнату, в которую воспретил вход всем, не исключая слуги. Окружавшие его оренбуржцы, заинтересовавшиеся таинственным приезжим, как-то дознались, что живя взаперти, он постоянно занимался писанием и что-то чертил с помощью циркуля; при этом окна его комнаты были всегда наполовину закрыты салфетками. Все эти странности привели полицмейстера к заключению, что "он может быть человек подозрительный и неблагонамеренный для России", поездка же Сандерсона по окрестностям города и в Илецкую защиту еще более укрепили эти подозрения, и пошла секретная переписка: полицмейстер уведомил об этом военного губернатора, последний сообщил в Петербург в III Отделение, за Сандерсоном установлен был тайный надзор... Одно из писем Сандерсона из Оренбурга к матери подверглось перлюстрации и в нем оказалась довольно резкая характеристика оренбургских жителей. После нескольких скандалов и драки со своим слугой Сандерсон в ноябре 1827 г. был выслан из Оренбурга в Москву, а оттуда препровожден с жандармами до границы с Австрией.
Около того же времени в Россию явились два квакера (Аллан и Грелле), интересовавшиеся здесь преимущественно тюрьмами, домами призрения, школами и религиозной жизнью русского народа.
В одном из очерков М. Н. Загоскина изображен карикатурный портрет англичанина-туриста на гулянье в Петровском парке под Москвой. Он танцует, а затем слушает хор цыган. "Подле нас стояли два француза. Они, казалось, были в восторге от этого бешеного хора... Да, да! -проговорил позади их исковерканным французским языком тот самый англичанин, который так усердно танцевал французскую кадриль. -Годдем! Как эти голоса напоминают мне вой моих охотничьих собак, когда их запрут на псарню!" Сатирический образ английского туриста изобразил также В. К. Кюхельбекер в своей драматической сказке "Иван, купецкий сын" (1832-1842): это лорд Элгин (у Кюхельбекера - Эльджин), путешествовавший по России с Кикиморой,(олицетворением злого духа ироде русского Мефистофеля), принявшим образ лакея. Кикимора говорит, между прочим:
На мне ливрея
Наемного лакея,
Но и под ней, друзья,
Кикимора все тот же я...
А впереди меня идет мой барин;
Он англичанин, вы заметьте, не татарин;
Вдобавок, он ученый и турист.
Между Эльджином и Кикиморой происходит острый разговор о русских (в частности новгородских) древностях, кончающийся резким осуждением Эльджина и учиненного им грабежа античных мраморов в Греции; характерно, что Эльджин говорит у Кюхельбекера на макароническом русско-французско-английском языке.
Время от времени появлялся в России то какой-нибудь художник, присланный лондонским издателем, чтобы срисовать Кремль и петербургские дворцы для английского "Живописного ежегодника" с видами европейских столиц; то заезжий литератор, которому поручено было составить текст к указанным рисункам; то просто предприимчивый турист; иного привлекали сюда семейные связи или случайные обстоятельства.
"Один из лондонских книгопродавцев, - писали в "Московском наблюдателе" 1836 г., - желая в прошлом году издать живописный альманах пороскошнее и повернее, присылал в Москву нарочно одного живописца срисовать Кремль и замечательнейшие здания нашей старой столицы. Неугомонный живописец не удовлетворился одними рисунками и пустился в описания нравов, торговли, промышленности и общественного быта московитов. Само собою понимается, как эти описания должны быть верны и остроумны, когда автор все это сделал в две-три недели..."
Речь идет о книге Л. Ричи (Leitch Ritchie; 1800-1865) "А Journey to St. Petersburg and Moscow" (London, 1836), вышедшей с 25 гравюрами на стали, - видами Петербурга и Москвы. Однако художник и автор текста к этой книге - разные лица. О том как и с чьей помощью составлялась эта книга, дает представление письмо О. И. Сенковского к М. Н. Загоскину из Петербурга в Москву (6 мая 1835 г.): "Податель этого письма - английский литератор и путешественник Ричи (Ritchie), известный своими сочинениями и один из хороших нынешних прозаиков в Англии, просил меня доставить ему знакомство с каким-нибудь отличным русским литератором в Москве. Вы понимаете сами, почтеннейший Михаиле Николаевич, что из народного тщеславия и для спасения чести русской словесности перед иностранцем я указал ему на одного вас, как на единственного представителя русского изящного ума и литературной образованности в первопрестольном граде Москве, не говоря уже о ваших любезных качествах. Поэтому, примите же его под покровительство всей вашей блистательной любезности, а я, со своей стороны, не сомневаюсь, что потершись о ваши дарования, он уедет из России наэлектризованный восхищением и самым лучшим и лестным понятием о русском литературном сословии. Постарайтесь показать ему Москву с самой живописной и выгодной стороны, потому что, надобно вам знать, он путешествует с такими злобными намерениями, которые должны сильно подстрекнуть ваш патриотизм коренного москвича. Он издал в прошлом году великолепный альманах в Лондоне, имевший большой успех в Англии и на твердой земле: это "Walter Scott and Scotland" с пышными гравюрами и текстом, относящимся к разным достопримечательностям Шотландии. В нынешем году издает он такой же альманах под названием "Russia". На будущий год он берет Швецию, потом Германию, Францию, Испанию, Турцию и прочая! Таким образом в шесть лет они, то есть он и книгопродавец Heath, с которым он предпринял это прекрасное издание, проведут через альманах всю Европу. В прошлом году они присылали в Россию живописца для снятия разных видов, которые уже гравируются на стали в Лондоне. Теперь г. Ричи сам приехал посмотреть на предметы, которые срисованы живописцем, чтобы описать их".
Любопытно, что в этом же году в Лондоне был издан даже специальный "Путеводитель по Петербургу и Москве" для нужд английских путешественников, очевидно, он вполне отвечал тогда спросу на книжном рынке.
Находились тогда и такие туристы, которые ездили в Россию по "семейным обстоятельствам". Так, некий Р. Л. Венейблс (R. Lister Venables), издавший в 1830-х годах в Лондоне две книги о русской жизни - "Домашние сцены в России" и "Домашние обыкновения русских", - писал в предисловии к последней книге: "Породнившись благодаря моей женитьбе со многими русскими семействами, в течение лета 1837 г. я путешествовал с моею женою по ее отечеству для свидания с ее родственниками; мы провели с ними двенадцать месяцев, частью в их поместьях внутри России, частью в их зимних домах в Петербурге". Русский журналист, рецензируя обе эти книги Венейблса вместе с целой серией других английских путешествий но России, писал о них: "Автор не любит избитых путей и не идет за толпой путешественников в большие города, но заглядывает в них только мимоходом, когда они лежат ему по пути. Он выбирает себе дороги проселочные, сворачивает в сторону, заезжает к помещикам, описывает их быт верно и резкими чертами, конечно, не пропуская случаев иногда посмеяться над ними... Он довольно удачно схватил некоторые характеристические черты нашего народа. Описание тамбовской ярмарки также взято с природы". Весьма многие из этих путешественников берутся за перо, чтобы описать свои дорожные впечатления; иные по возвращении на родину издают путевые записки, другие оставляют в своих домашних архивах письма, заметки и всякого рода памятные материалы, которые позже также попадают в печать.
Ф. Ф. Вигель вспоминает с присущей ему желчностью про одного британского туриста, "самого простого джентльмена, даже с весьма ледащею наружностью", поведение которого на балу, куда приглашен был этот странствующий по российским провинциям англичанин, показалось мемуаристу не столько оригинальным, сколько вовсе не приличным: "Он явился в собрании на бале в странном фраке с длинными фалдами, с огромною лысиной и с маленьким лорнетом на шнурке, в правый глаз вставленным, что показалось великою новостью. Он остановился посреди залы, вынул из кармана записную книжку и карандаш, а потом, окидывая взорами общество, стал что-то записывать или рисовать". В тех же "Записках" Вигель рассказывает про "одну путешественницу, английскую леди, бывшую в Москве", которую настолько заинтересовала одна романтическая история (некий молодой человек, воспитанный в доме князя, влюбляется в его дочь; узнав, что молодая девушка его сводная сестра, он постригается в монахи), что она ездила в Троицкую лавру, чтобы повидать героя рассказа, а затем "составила из этого трогательную повесть и напечатала ее в одном великолепном кипсеке".
Повесть Фан-Дим (Е. Н. Кологривовой) "Голос за родное" (СПб., 1842), действие которой отнесено к 1838 г., целиком построена на материале об английских туристах в России, появляющихся здесь в качестве основных действующих лиц повествования. Уже в первых главах описан один из них, беседующий на корабле, в виду Петербурга, с русскими, "которых он уже обрек на жертву своему будущему тому in-octavo, предприняв настоящее путешествие с единственной целью: живописать Россию и ее жителей. Турист был одержим одной господствующей идеей - "to catch notions about his present object" (т. е. наловить как можно более сведений об избранном предмете) и ловил же он их, как мух, на лету, без всякого разбора! Разумеется, он начал свои премудрые наблюдения с первых русских, какие ему повстречались..." Писательница ядовито замечает про своего героя, что, отправляясь в Петербург, "он наперед заготовил великолепное предисловие к своему будущему изданию о России, и оно начиналось общим взглядом на этот оригинальный народ.
"Туристы водятся только на великобританских островах, преимущественно в английских графствах, - говорится в другом месте этого же романа <...> - Как птицам перелетным, не живется им в родной стороне; шататься беспрестанно по белому свету есть важнейшее и даже необходимое условие их существования ... В Россию только недавно стали залетать туристы: за то и обрадовались ей, как новой теме, возбуждающей любопытство на Западе, и теперь нашу бедную прекрасную родину терзают туристы точно так же, как уличные музыканты безбожно пиликают любимые темы из лучших опер".
В повести Ф. Ф. Корфа "Музыкант" ость эпизод, где рассказывается о прибытии в Петербург иностранного парохода, на котором среди других лиц находятся два английских путешественника. "Ces anglais sont-ils droles!" (Эти англичане такие чудаки!) - замечает один из их спутников.- Посмотрите, эти два англичанина ходят по палубе и нимало не восхищаются, как будто они въезжают в какой-нибудь Плимут или даже хуже..."; "Английский баронет кликнул своего наемного лакея, хваставшего знанием русского языка, и сказал ему: "Coach! (Извозчика!)" - Лакей бросился к извозчику и толковал ему что-то, но тот из всех речей его понял только: Демут-трактир, сказал: "двугривенный, барин", и подал дрожки". В "Московском наблюдателе" помещена "Повесть о том как Англия попала в Костромскую губернию". В этом заурядном произведении беллетристики рассказано о некоем английском путешественнике, который влюбляется в московскую девушку Полину, оставшуюся без матери и воспитывавшуюся у старой тетки, и едет за ней в глухую деревню центральной России.
Английская пресса 1830-х годов, в свою очередь, не могла не обратить внимание на этот хлынувший на лондонский книжный рынок поток всевозможных описаний поездок в Россию, страну, которая, как писал "Athenaeum", "со дня на день привлекает к себе все большее и большее внимание публики. Тот же " Athenaeum" в 1836 г. недоумевал, зачем понадобилось некоему преподобному Р.-Б. Полю (Rev. R. B. Paul) издать свой весьма заурядный отчет о двухмесячной поездке из Лондона в Москву и обратно, и в особенности, что заставило другого туриста Рэйфорда Рэмбла (Rayford Ramble) в том же году издать свои путевые очерки по России, относящиеся к 1819 г., т. е. к путешествию, имевшему место 17 лет тому назад. Поневоле книги вроде труда П. Добеля (Р. Dobеll) "Россия как она есть, а не так, как ее себе представляют" ("Russia as it is and not as it is being represented". London, 1833) являлись тогда распространенными и злободневными.
Историческое значение всех этих многочисленных изданий - книг, путевых дневников, воспоминаний, писем с дороги и проч. - разумеется, далеко не равноценно, но в большинстве из них заключаются иногда интересные суждения о России, русском народе, различных сторонах русской культуры, искусства, общественной жизни, быта и нравов. Число их особенно возрастает после 1814 г.; назовем среди них для примера, помимо уже ранее указанных нами, книги Джонстона (1817), В. Вильсона (1828), Гренвиля (1828), сэра Александера (1829), Э. Мортона (1830), Френкленда (1832) и др. В 1839 г. "Сын Отечества" "с чувством народного самодовольствия" отмечает обилие книг о России, выходящих в Англии: "Прошло то время, когда иностранцы, говоря о России, довольствовались пустыми бреднями злонамеренных умов и верили на-слово какому-нибудь Леклерку или Ансело"; теперь они "стали глубоко вникать в внутреннее управление нашего государства во всей его многосложности, от самых мелочных подробностей восходя до коренных его законов".
Англичане - знакомцы Пушкина и их рассказы о нем. Э. Уиллок, Гренвиллъ, Рейке и Френкленд
Англичан - путешественников по России или постоянно живших здесь - Пушкин часто упоминает в своих произведениях, в особенности в 30-е годы. Недаром такую типическую фигуру встречаем мы в 8-й главе "Евгения Онегина" при характеристике русского светского общества
И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал *,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.
Строфа XXVI
* Вариант: "блестящий лондонский нахал".
В набросках "Романа в письмах" Пушкина, писанных, вероятно, в 1829- 1830 гг., именем "леди Пельгам" названа какая-то "заезжая англичанка", упоминаемая среди лиц петербургского света. Эпизодический англичанин встречается в "Пиковой даме": на похоронах графини близкий родственник покойницы "шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер (Германн)- ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Оh?" (гл. V). Напомним, что "англичанин" назван также в одном из вариантов плана "Дубровского". Не забудем также сатирический образ англичанки-гувернантки в семье Муромских ("Барышня-крестьянка"). Все это - традиционные образы в русской поэзии и прозе 30-х годов; поэтому искать возможные их реальные прототипы вовсе не обязательно.
Пушкин интересовался печатными описаниями английских путешественников как старого времени, так и ему современными. В некоторых из этих книг попутно говорится о русской литературе и встречается также имя Пушкина. Несколько таких книг находилось в библиотеке поэта; с иными из путешественников он встречался лично, о других мог слышать от своих друзей. Во всяком случае, очень значительная часть этой литературы английских путешествий, безусловно, находилась в сфере его внимания, в особенности с тех пор, как английская жизнь и культура сделались предметом его глубокого интереса и серьезного изучения.
Следует, впрочем, подчеркнуть, что та или иная живая связь с английским миром, помимо книг и журналов, в сущности, не прекращалась у Пушкина всю его жизнь, начиная с первых послелицейских лет. Значение всех этих непосредственных внелитературных источников, которыми пользовался поэт, глубоко интересовавшийся жизнью Англии, у нас, несомненно, недооценено; круг его данных об этой стране был много шире и непосредственнее того, о котором дают нам представление книги его личной библиотеки и его возможные чтения вообще. Живая беседа значила иной раз больше, чем прочтенная книга на ту же тему.
С одной стороны, Пушкин и лично и через посредников имел постоянное общение с жившими в Англии представителями русского дипломатического мира. Так, в Англии бывали "арзамасцы" Д. П. Северин и П. И. Полетика (см. гл. II); "туманный Альбион" посетил (в 1814 г.) К. Н. Батюшков, и этот визит отозвался и в его письмах, и в стихах, хорошо известных Пушкину ("Воспоминания" и "Тень друга"). В 1818 г. к русскому посольству в Лондоне был причислен Н. И. Кривцов, знакомец Пушкина с 1817 г., который, по словам А. И. Тургенева, "не перестает развращать Пушкина и из Лондона и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии"; советник русского посольства в Лондоне Д. Н. Блудов сообщал своим друзьям по Арзамасу новинки английской литературы. В 1819 г. кратковременное путешествие в Лондон совершил С. И. Тургенев, приславший в Петербург свое рукописное "Письмо об Англии", которое ходило по рукам среди его друзей".
В более поздние годы вестями из Англии делились с Пушкиным А. И. Тургенев, С. А. Соболевский и даже те их общие друзья, которые сами не бывали в Лондоне, но получали оттуда письма от родственников и знакомых. Напомним здесь П. А. Вяземского или Д. В. Давыдова: байроновские рукописи, приобретенные первым из них, переписка с Вальтером Скоттом второго, несомненно, живо интересовали Пушкина. Сообщения, рассказы, новости об Англии, характеристика английского быта, общественной жизни, политические и литературные вести, полученные из первых рук, существенно дополняли в сознании Пушкина все то, что он мог узнать об этой стране из французской и русской литературы. Другой ряд подобных же сообщений Пушкин мог получать от англичан, путешествовавших по России. Поэтому круг английских знакомств поэта представляет несомненный интерес.
Некоторые из этих знакомств и встреч отмечены в литературе. Известно, например, о случайной встрече Пушкина в июне 1820 г. в доме у Н. Н. Раевского на Кавказских минеральных водах с чиновником английской миссии в Иране капитаном Эдуардом Уиллоком (Willock). Предполагая с достаточным основанием, что Уиллок приехал из Тегерана на Кавказ с тайным умыслим "высмотреть положение наших военных дел и Чечне и Дагестане", генерал Л. А. Вельяминов, заступавший в то время место А. П. Ермолова, дал распоряжение "наблюдать за всеми его действиями и следить, кто у него бывает и как часто". Подробный рапорт об этом из Георгиевска от 1 июля 1820 г., между прочим, упоминает о том, что в день прибытия на горячие минеральные воды, 20 июня, Уиллок "был у его высокопревосходительства - генерала от кавалерии и кавалера Раевского и пробыл у него довольное время", а на другой день, 21 июня, в дом "губернской секретарит Анны Петровой Макеевой", снятый Э. Уиллоком на время его здесь пребывания, "приходили к ному л.-гв. гренадерского полка поручик князь С. И. Мещерский 1-ый, л.-гв. ротмистр Николай Николаевич Раевский и недоросль, находящийся в свите его высокопревосходительства генерала Раевского, Александр Сергеев Пушкин. После отдыха Виллок, с персидским переводчиком и со оными посетителями, прохаживался, был вторично у его высокопревосходительства Николая Николаевича Раевского, у коего обедал. После сего, возвратясь на квартиру, в 4 часа пополудни отправился через Шотландскую колонию в Георгиевск...". Из этого документа явствует, что с Уиллоком Пушкин встретился несколько раз. К сожалению, не сохранилось никаких данных о содержании их бесед; затрудняемся также утверждать, стало ли Пушкину в конце концов известно, что в августе того же 1820 г., т. е. приблизительно через месяц после его знакомства с Эдуардом Уиллоком, последний был уличен в вербовке дезертиров из русской армии, в частности в пособничестве перебежчикам в Иран, русским солдатам 42-го егерского полка, расквартированным в Карабахе, и что находившийся при нем "персидский переводчик", который тоже упоминается в цитированном выше документе, был армянин Садык, иранский мехлендарь (чиновник), приставленный к англичанину иранскими военными властями; этот "переводчик" и осуществил переход дезертиров через русско-иранскую границу. Как известно, Грибоедов, находившийся тогда в Тавризе, послал две резкие дипломатические ноты в Тегеран на имя английского поверенного в делах Генри Уиллока, брата знакомца Пушкина.
В "Путешествии в Арзрум" Пушкин упомянул о миссионерах из Эдинбурга, имевших свою колонию близ Пятигорска; фигурируют они также в фрагментах неоконченной поэмы о Тазите, в которой один из них, вероятно, должен был быть изображен.
В одесский период одним из собеседников Пушкина был "англичанин, глухой философ, единственный умный Афей, которого я еще встретил". - как писал сам поэт в письме (предположительно к П. А. Вяземскому), перлюстрированном московской полицией. Кто был этот англичанин, у которого Пушкин брал "уроки чистого афеизма", долгое время не удавалось выяснить. Лишь в настоящее время можно считать вполне установленным, что речь идет о домашнем враче Воронцовых, Вильяме Хатчинсоне, или Гутчинсоне, как писали у нас в то время.
В Одессе же, в том же кругу Воронцовых Пушкин встречался с только что приехавшим из Италии молодым графом М. Д. Бутурлиным, которого повсюду сопровождал гувернер-англичанин м-р Слоан, походивший больше на старшего товарища своего воспитанника, чем на наставника. Он понравился В. Я. Вяземской. В письме к мужу из Одессы она называет его "человеком лет тридцати", "очень красивым и настолько остроумным, насколько возможно для англичанина, говорящего по-французски. Это образованный человек, находившийся некоторое время в Италии и приятный в разговоре". М-ра Слоана любили и отличали в светских гостиных, хотя Пушкина мог раздражать присущий тому самоуверенный и несколько развязный тон. Не исключена возможность, что Пушкин вспомнил его, когда, набрасывая на бумагу "воображаемый разговор с Александром I" (датируется - декабрь 1824 - февраль 1825 гг.), дошел до следующего места своего диалога с императором. Александр I задает Пушкину вопрос: "Скажите, как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым?" "Ваше величество,- отвечает ему поэт,- генерал Инзов добрый и почтенный <старик>, он русский в душе, он не предпочитает первого английского шалопая всем <известным> и неизв<естным)> своим соотечественникам)". Эти слова находят себе полное соответствие в сохранившемся лишь в черновике письме Пушкина к А. И. Казначееву (от начала июня 1824 г.), служившем ответом на не дошедшее до нас письмо, в котором Казначеев, очевидно, уговаривал поэта успокоиться и не проситься в отставку: "Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, - писал Пушкин, - мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к первому попавшемуся [дураку] мальчишке англичанину, который является к нам, чтобы среди нас проявить свою [тупость], плоскость [небрежность] и свое бормотанье" (Пушкин, т. XI, с. 23, 531; т. XIII, с. 95, подлинник по-французски).
В Одессе же в 1823 г. Пушкин встретился с Чарлзом-Эдвардом Томсоном (Charles-Edward Thomson; 1799-1841), сыном богатого английского негоцианта, который прожил в Одессе около двух лет (1821-1823), спасаясь от петербургского климата и управляя филиалом отцовской петербургской торговой фирмы; уехав в Англию, Томсон вскоре стал видным членом парламента, одним из лидеров вигов. Впоследствии он получил титул барона Сиднема и в конце жизни стал губернатором Канады. О знакомстве его с Пушкиным мы знаем из собственного свидетельства Томсона, занесенного в дневник А. И. Тургенева (запись от 14 марта 1828 г.). В бытность свою в Англии А. И. Тургенев встретился с Томсоном на обеде у маркиза Лансдауна. "Когда дамы нас оставили, разговор о политической экономии, о истории, о поэте Пушкине, о брате сделался общим", - записывает Тургенев и дневнике и прибавляет: "Томсон знавал Пушкина в Одессе, а брата <Н. И. Тургенева) в английском клобе и здесь <т. е. в Англии>". Отметим также, что Ч.-Э. Томсон имел много знакомых и в Одессе, и ранее к Петербурге. Помимо Н. И. Тургенева знал он и других будущих декабристов. Булгарин в своем доносе о связях декабристов с иностранцами сообщил, что "Корнилович и Муханов (Петр) были в связи с богатым английским купцом Томсоном, который снабжал их запрещенными либеральными газетами и брошюрами. Сам Томсон учился по-русски и путешествовал по России". Вполне вероятно, что английскими изданиями Томсон снабжал также и Пушкина в период их знакомства в Одессе.
С начала 1830-х годов встречи Пушкина с англичанами в обеих столицах не прекращались. В 1831 г. в Москве Пушкин с женой участвовал в масленичном катанье на санях вместе с англичанином Нидхэмом (Niedham). Позднее, в Петербурге, поэт был знаком со многими представителями английского дипломатического мира, например, с лордом Гейтсбери. В "Дневнике" Пушкина есть также несколько записей о встречах и беседах его с Блаем (Bligh), поверенным в делах английского посольства, с которым он был знаком довольно близко. Записи относятся к 1833-1834 гг. Первая из них рассказывает о беседе с Блаем на балу у Бутурлина. Несмотря на краткость записи, она позволяет догадываться, что беседа шла на животрепещущую тему о Западе и Востоке, остро интересовавшую тогда публицистов и России, и Англии.
Известно, далее, что Пушкин до последних дней своей жизни поддерживал сношения с состоявшим при британском посольстве Артуром Меджнисом (Arthur C. Magenis). О встречах с ним Пушкина у гр. Фикельмон упоминает в своих дневниках А. И. Тургенев; по словам Н. М. Смирнова, Меджнис "часто бывал у Фикельмон", это был "долгоносый англичанин (потом был посол в Португалии), которого звали perroquet malade (больной попугай (франц.), очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав". За несколько дней до роковой дуэли Пушкин обращался к Меджнису с просьбой быть его секундантом; сохранилось письмо Моджниса к поэту по этому поводу от 27 января 1837 г. В последний месяц жизни в поле зрения Пушкина находился также приезжавший в Петербург с женой лорд Лондондерри; несколько отметок о нем находим в дневниках А. И. Тургенева; французский посол Барант писал из Петербурга (20 декабря 1836 г.): "Лорд Лондондерри отлично принят и уважен императором. Он отличался храбростью, служа в русских войсках с 1812 г., и здесь увиделся с бывшими сослуживцами".
Знаком был Пушкин также с художником-англичанином Дж. Доу, долго жившим в России и писавшим портреты героев Отечественной войны 1812 г. для Военной галереи Зимнего дворца. Однако достоверно известно лишь об одной их встрече, состоявшейся на пироскафе, шедшем 9 мая 1828 г. из Петербурга в Кронштадт. Среди пассажиров этого пироскафа, кроме Пушкина, были также Оленины и Дж. Доу, но художник уже покидал Россию: в Кронштадте он должен был пересесть на корабль, направлявшийся в Лондон. Именно в тот день, когда состоялась совместная поездка указанных лиц, и, может быть, на том же пироскафе (в помете Пушкина "на море") Пушкин написал обращенный к художнику стихотворный экспромт - "То Dawe, Esqr", внушенный, как следует думать, карандашным наброском портрета Пушкина, сделанным тут же:
Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
Досадуя, что именно его запечатлел художник в своем наброске, Пушкин указывал на ехавшую с ними Аннет Оленину, которой он был тогда сильно увлечен:
Рисуй 0лениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.
"Арапский профиль" Пушкина остался, вероятно, в одной из записных книжек Доу, бывшей тогда при нем; в них он делал наброски с лиц, портреты которых задумывал. Этот карандашный эскиз, сделанный 9 мая 1828 г., не разыскан, портрет, вероятно, не был написан, а стихотворение Пушкин напечатал в том же году в альманахе "Северные цветы" на 1829 г.
В конце декабря следующего года (1829) в Петербурге состоялось знакомство Пушкина с английским путешественником Томасом Рейксом (Thomas Raikes; 1777-1848). Сын крупного английского дельца, бывшего друга Вильяма Питта-младшего, Рейке не чувствовал никакой склонности к предпринимательской и купеческой деятельности, к которой готовил его отец. Томас Рейке являлся одним из типичных представителей английской "золотой молодежи"; он был денди и модным франтом, другом и подражателем Дж. Бруммеля в "искусстве великосветской жизни"; знавал он также и Байрона в период его лондонской славы. В аристократических клубах Рейке известен был под насмешливой кличкой "Аполлон", а художник Дайтон в одной из своих карикатур вывел его в его неизменном наряде - сюртуке, застегнутом на все три пуговицы, клетчатых брюках и черном галстуке - в качестве лондонского rakes (распутника). Много путешествуя но Франции. Италии, Швейцарии, Рейке в конце 1829 г. побывал и в Петербурге. Он остановился здесь у английского посланника н вращался в высшем обществе.
В книге Рейкса, описывающей его посещении русской столицы ("А visit to St. Petersburg in the winter of 1829-1830". London, 1833), а также в изданном после его смерти дневнике, мы находим рассказ о встрече с Пушкиным. Рейке рассказывает здесь (в письме от 24 декабря 1829 г.), что "прошлым вечером у барона Р." (аt Ьаron Rehansen's) он встретил "Пушкина - русского Байрона" (the Byron of Russia), "знаменитого и вместе с тем единственного поэта в России. Его слава установлена и не имеет соперников, никто не пытается оспаривать лавры на его челе. Его поэмы читаются с наслаждением его соотечественниками, которые одни способны оценить их; и труды его вознаграждаются - он может всегда требовать десять рублей за каждую строчку от своего издателя". Свой высокомерный отзыв, свидетельствующий, что случайно оказавшемуся в Петербурге заезжему лондонскому дэнди Пушкин был вовсе чужд, Рейке пытается обобщить, характеризуя отношение поэта к русской литературе, о состоянии которой сам Рейке имел не более ясное представление, чем о Пушкине. Отметив "скудость" существующей в России литературы и недостаточность литературного вкуса (In such a dearth of literature taste...), Рейке с циничной авторитетностью заявляет о творчестве Пушкина: "Нельзя не предположить, что сочинения его могут быть переоценены его читателями, и, так как гений не подстрекается соревнованием, они, вероятно, не очень объемисты, частью потому, что он, будучи доволен своей славой, редко обращается к своей музе, кроме тех случаев, когда его денежные средства приходят в упадок". Отзыв Рейкса о самом Пушкине не менее высокомерен: "Я не заметил ничего особенного в его личности и манерах; внешность его неряшлива; этот недостаток является иногда у талантливых людей, и он откровенно сознается в своем пристрастии к картам; единственное примечательное выражение, вырвавшееся у него во время вечера было: "J'aimerais mieux mourir que ne pas jouer" (Предпочел бы умереть, чем не играть (франц.). Хотя он решительный либерал и sourdement (тайно (франц.) замешан в последнем заговоре, он постоянно пользовался внимательным и ласковым отношением императора; его муза также была причастна к революционному делу и произвела стихотворение, которое, при существующих обстоятельствах, ни один деспотический государь не мог бы никогда забыть или простить". Выписав полностью "Кинжал" во французском переводе (взятый из книги Ансло "Six moisen Russie"), Рейке резюмирует: "При таком неограниченном правительстве, я не знаю, чему больше удивляться: смелости ли поэта, который написал такое дерзкое и преступное стихотворение, или же великодушию государя, который отнесся к нему снисходительно".
Таким образом, Рейке не обнаружил в приведенном отзыве ни познаний в русской литературе, ни понимания Пушкина как человека и поэта. Поверхностный и неглубокий наблюдатель, каким представляется Рейке и в рассказах о своих путешествиях (помимо "Посещения Петербурга", он издал также в 1841 г. книгу "Франция в 1830 г."), и в своих дневниках, он и в данном случае остался вполне верен себе. Отзыв Рейкса лучше характеризует его самого, чем русского поэта. Этот блестящий франт, который считал безупречными свои наряды, а себя красавцем, несмотря на свое изрытое оспой лицо, гораздо больше интересуется внешностью Пушкина, не вполне безукоризненной, на его взгляд, чем своей с ним беседой. Страсть к карточной игре, по его мнению, - единственная примечательная черта в личности Пушкина, которую он счел достойной занесения в свой путевой дневник. Но Рейксу, вероятно, осталось невдомек, что Пушкин обладал в высокой степени даром поддерживать беседу с любым человеком, в том самом стиле, который был свойствен именно его собеседнику, и что "блестящий лондонский нахал", которого безмолвно осудил петербургский свет, вовсе не должен был рассчитывать на интимность или задушевность разговора с русским поэтом; именно в этом смысле эскизный портрет "залетного" лондонского путешественника, набросанный в "Евгении Онегине", мог быть типичен и для Рейкса. Перечитывая легкомысленные страницы французской книги Ансло, осужденной Пушкиным, и механически выписывая оттуда пушкинский "Кинжал", Рейке больше поражен был тем, что Пушкин еще на свободе, чем сущностью его политических воззрений; очевидно, этой темы их разговор не касался вовсе. Зато в записи от 1 марта 1830 г. мы находим след другой его беседы с Пушкиным, более отвечавшей стилю салонной болтовни. Пушкин рассказал случай из лицейских времен, реальные основания которого нам известны, что подтверждает и достаточную точность передачи этой беседы. "Как-то вечером, - пишет Рейке, - в обществе разговор зашел об убийствах, которые здесь нередки в низших классах общества, хотя редко упоминаются в здешней очень незначительной газетной печати, которая не получает сведений о таких происшествиях. Поэт Пушкин сказал весьма серьезно: "Le plus interessant assassin que j'ai connu, etait un domestique que j'avais il y a quelque temps" (Самый интересный убийца из тех, которых я знал, был слуга, несколько времени тому назад служивший у меня (франц.). По-видимому, этот человек безнаказанно совершил восемь убийств, девятое было раскрыто, и он сделал такое признание. В Царском Селе он нанял сани для поездки, которая обошлась бы ему в 50 копеек. Во время езды он стал соображать, что если убьет извозчика, то, конечно, сбережет себе плату за проезд и, быть может, найдет сколько-нибудь денег в его кармане. Ради этого он очень спокойно вынул нож, ударил им извозчика в спину и затем перерезал ему горло. Ограбив несчастного, он нашел только 24 копейки, следовательно он убил человека из-за денег счетом около восьми пенсов". Этот случай из уголовной хроники имеет в виду Константина Сазонова, дядьку в лицее пушкинских времен; о нем рассказывает и М. А. Корф в своих лицейских воспоминаниях.
Рейке назвал Пушкина "русским Байроном". Следует отметить, что за Пушкиным это прозвание уже утвердилось к тому времени в английской литературе. Врач Аугустус Боцци Гренвилль в описании своей поездки из Лондона в Петербург мог уже в 1828 г. сказать, что "имя Александра Пушкина, русского Байрона, вероятно, хорошо известно большинству английских читателей". Конечно в этом была доля преувеличения, однако сам Гренвилль мог знать о Пушкине несколько больше того, что должны были знать о русском поэте внимательные читатели английских журналов (он приехал в Петербург в качестве личного врача Е. К. Воронцовой и гостя М. С. Воронцова).
Гренвилль о Пушкине сообщает следующее: "Литературную деятельность он начал всего четырнадцати лет, будучи тогда студентом императорского лицея, а в возрасте девятнадцати лет он написал прославленную поэму "Руслан и Людмила", по своей красоте превосходящую все то, что до того было напечатано в России. С тех пор он написал много других произведений, хотя ему еще нет и двадцати восьми лет. Мои читатели, без сомнения, знают о временном удовольствии, которое этот юный и пылкий поэт возбудил в высших сферах еще до вступления на престол имп. Николая своей "Одой к свободе". Русские обязаны ему переводом шекспировского "Короля Лира". То, что сказано здесь относительно "Руслана и Людмилы", основано, вероятно, на известии, помещенном еще в "New Monthly Magazine" 1821 г., все дальнейшее - на заметках "Foreign Quarterly Review", 1827-1828 гг.; так, в этом журнале также однажды говорили о якобы сделанном Пушкиным переводе "Короля Лира", утверждая даже, что Пушкин "начал свою литературную деятельность" именно с этого загадочного перевода. Что же касается "Оды к свободе", т. е. стихотворения "Вольность", то другой английский путешественник, также врач Э. Мортон, побывавший в России в 1827-1829 гг., прямо утверждал, что будто бы за эту оду Пушкин был даже сослан в Сибирь.
Известия о Пушкине Гренвилля и Мортона были взяты ими из третьих рук; Рейке видел самого поэта, но его рассеянный светский взгляд не подметил в нем ничего особенно примечательного, и Пушкин стал поводом для легкомысленной записи в его путевом дневнике. Однако вовсе пройти мимо Пушкина для путешественника, который претендовал на некоторое знакомство с русской общественной и культурной жизнью и набрасывал легкий очерк состояния русской литературы, очевидно, было невозможно.
Нам известны еще аналогичные записи трех встреч с Пушкиным капитана Френкленда, состоявшихся в мае 1831 г. в Москве. Эти записи тем более любопытны, что они помещены в книге, находившейся в руках Пушкина и сохранившейся в составе его библиотеки. "Narrative of a visit to the courts of Russia and Sweden, in the years 1830 and 1831. By captain С. Colville Frankland", 2 vols, London, 1832); таким образом, Пушкин прочел то, что написал о нем этот английский путешественник. "Любопытно, - замечает Б. В. Казанский, обративший внимание на эту незамеченную исследователями книгу, - что разговор, по-видимому, скоро получил общественно-политический характер, - очевидно, Пушкин охотно шел на это; возможно даже, что сам шел к этому <...> Запись начинается с общего вопроса о реформе политического строя России и вскоре сосредоточивается на освобождении крестьян - основном, надо думать, в глазах англичанина, причем Пушкин, по-видимому, сообщил ему конкретные данные о положении крепостных".
Любопытно, что и здесь, - очевидно, по установившейся традиции - Пушкин назван "русским Байроном". Запись об одной из трех встреч с ним Френкленда гласит: "Мая 8 <20> 1831 г. В полдень Пушкин (русский Байрон) посетил меня и сидел со мной около часу. Его разговор занимателен и поучителен. Он, по-видимому, основательно знаком с политической, гражданской и литературной историей своей страны, а также вполне осведомлен о погрешностях и пороках русского управления. Он, однако, того мнения (как все разумные и хорошие люди), что никакая большая и существенная перемена не может иметь места в политическом и общественном строе этой обширной и разнородной империи иначе, как постепенными и осторожными шагами, каждый из которых должен быть поставлен на твердую основу культурного подъема, или, другими словами, на просветлении человеческих взглядов и на расширении разумений".
Все отмеченные нами английские путешественники, как показывают их записи, беседовали с Пушкиным, главным образом, о России; это представляется вполне естественным для тех книг, предметом которых являлась характеристика русского государственного строя и общественно-политической жизни.
Касалась ли их беседа также и Англии? В этом не может быть никакого сомнения; мы не знаем об этом только потому, что вопросы поэта и ответы англичан не было необходимости заносить в их путевые дневники, предназначенные для английских читателей, которых, надо думать, больше могли интересовать отзывы Пушкина о русской жизни, чем его отношение к английской действительности. Между тем, интерес этих бесед был, безусловно, двусторонний. Пушкин внимательно наблюдал заезжих англичан и, несомненно, осведомлялся у них о состоянии английской политической и культурной жизни, как прежде расспрашивал об этом своих друзей, бывавших в Англии.
Англичане-путешественники могли пополнить его книжные сведения о той стране, которая глубоко его интересовала, могли делиться с ним свежими политическими новостями, давать ему характеристики событий ее новейшей истории. Несомненно, например, что, говоря о русском самодержавии, Пушкин не мог не осведомляться об особенностях английского парламентаризма. В стихотворении "К вельможе" (1830) Пушкин недаром давал попутную, но продуманную характеристику английского конституционного строя:
Но Лондон звал твое внимание. Твой взор
Прилежно разобрал сей двойственный собор:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.
Известен пушкинский иронический стих: "Что нужно Лондону, то рано для Москвы"; генетически эта мысль была связана с позднейшим убеждением Пушкина об особых путях исторического развития России, но интересно было бы выяснить, какой долей реальных данных для такого умозаключения Пушкин обязан был своим беседам с людьми бывавшими в Англии.
Не подлежит никакому сомнению, что Пушкин с большой зоркостью следил "за ходом политической и общественной жизни Англии на основании доступных ему источников. По-видимому, период с 1829 по 1834 г. был весь в поле его зрения". В бумагах Пушкина сохранилась карикатура на лорда Генри Брума, который в мантии лорда-канцлера вносит билль в верхнюю палату об избирательной реформе; она относится к 1832 г.; любопытно сопоставить ее с почти современным ей упоминанием об английской политической жизни в письме Пушкина к Вяземскому от 12-13 января 1831 г.: "В Англии, говорят, бунт. Чернь сожгла дом Веллингтона". Хотя слух оказался неверным и слово "бунт" преувеличило размах событий, но это свидетельствует все же, что Пушкину "прекрасно известны были политические бури, предшествовавшие реформе".
Недаром Пушкин в декабре 1834 г. написал стих "Разговор с англичанином", в котором дал замечательную для своего времени характеристику английского парламента, взаимных отношений классов в Англии и состояния английского пролетариата. Из этого "Разговора" видно, что он основательно ознакомился с Англией, со всеми особенностями ее быта и со всеми пружинами се государственного механизма. Он, несомненно, пристально следил за "английскими трехмесячными "Reviews" (т. о. за "Edinburgh Review", "Quarterly Review" и, может быть, за "Westminster Review"), знакомился, вероятно, и с английскими газетами и уже с давних пор мечтал о поездке в Англию. В первой редакции "Разговора" гневную филиппику о бедственном положении "английских работников" произносит у Пушкина англичанин, путешествующий по России, с которым он встретился якобы па пути между Москвой и Петербургом. До сих пор нерешенным остается вопрос, лежала ли в основе "Разговора с англичанином" реальная встреча и беседа, или Пушкин прибег здесь к фикции воображаемого собеседника. Из упомянутых нами английских путешественников лишь один Френкленд более других мог бы послужить прототипом для англичанина этого разговора, хотя и из его уст Пушкин едва ли мог услышать, например, восхищение бытом русского крепостного крестьянина. Другие, перечисленные выше, английские собеседники Пушкина, со своей стороны, едва ли могли бы раскрыть перед ним страшную картину бедствий английских рабочих. Последняя была результатом чтения и расспросов Пушкиным разных лиц. Но интерес обобщенной Пушкиным фигуры "английского путешественника" этим соображением не ослабляется. Выводя его в своем диалоге, Пушкин, несомненно, чувствовал его типичность на фоне русского столичного общества 1830-х годов.
Джордж Борро - писатель и полиглот
Из всех английских путешественников по России, которых Пушкин встречал лично или о которых он слышал, особый интерес представляет для нас Джордж Борро (George Borrow, 1803-1881). Он был одним из первых переводчиков Пушкина на английский язык, и эти переводы были изданы в России. Пушкин знал их - они имелись в его библиотеке. Один раз он даже получил от Борро в подарок книгу и ответил ему любезной запиской. Около двух лет Борро жил в Петербурге и очень полюбил этот город, где он обрел многих друзей и о котором он вспоминал долгие годы. Это дает нам право подробнее познакомиться с Борро как с оригинальным писателем, с его незаурядным обликом, нисколько не походившим на привычный облик путешествующего иностранца.
Литература о Борро в настоящее время довольно велика, изобилует биографическими материалами и документальными публикациями, но, тем не менее, история его жизни в России и его увлечение Пушкиным известны еще далеко не достаточно. Судьба литературного наследия Борро в английской литературе также была необычна.
Интерес к личности и творчеству Джорджа Борро возник лишь в самом начале XX в., главным образом со времени выхода в свет двухтомной монографии о нем В. Нэппа (Knapp), написанной на основе изучения огромного литературного архива Борро, до тех пор остававшегося под спудом. Переиздание тем же Нэппом в 1900 г. важнейших беллетристических произведений Борро еще более содействовало интересу читателей к этому полузабытому в то время литературному деятелю.
Кроме того, Борро объявили теперь выдающимся лингвистом и сразу вспомнили его разнообразные филологические и переводческие труды, остававшиеся в тени и небрежении. За несколько лет литература о Борро широко разрослась; целый ряд работ о нем английских и американских исследователей вскрыл с достаточной ясностью его незаурядный облик. Новое шестнадцатитомное собрание его сочинений под редакцией К. Шортера (Shorter), законченное в 1924 г., и в особенности многотомное издание переписки Борро и других документов из его архива, предпринятое главным образом Уайзом (Wise), которому принадлежит также полная библиография Борро, в основном завершили первоначальный этап его изучения. В эту огромную литературу, которой мы, к сожалению, располагаем далеко не полностью, как увидим, следует заглянуть пушкинистам, а также востоковедам, историкам русской культуры. Как Борро попал в Петербург и что он делал здесь между 1833 и 1835 гг., мы знаем: его толкнули на это нужда и случай. Борро было в это время тридцать лет.
Из кн.: Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII - 1 половина XIX вв.) // Литературное наследство, 89. Т. 91. М., 1989